
A SERVICE OF LOVE
by O. Henry
Другие статьи и рассказы средней сложности (Intermediate – upper-Intermediate)
When one loves one’s Art no service seems too hard.
That is our premise. This story shall draw a conclusion from it, and show at the same time that the premise is incorrect. That will be a new thing in logic, and a feat in story-telling somewhat older than the great wall of China.
Joe Larrabee came out of the post-oak flats of the Middle West pulsing with a genius for pictorial art. At six he drew a picture of the town pump with a prominent citizen passing it hastily. This effort was framed and hung in the drug store window by the side of the ear of corn with an uneven number of rows. At twenty he left for New York with a flowing necktie and a capital tied up somewhat closer.
Delia Caruthers did things in six octaves so promisingly in a pine- tree village in the South that her relatives chipped in enough in her chip hat for her to go «North» and «finish.» They could not see her f—, but that is our story.
Joe and Delia met in an atelier where a number of art and music students had gathered to discuss chiaroscuro, Wagner, music, Rembrandt’s works, pictures, Waldteufel, wall paper, Chopin and Oolong.
Joe and Delia became enamoured one of the other, or each of the other, as you please, and in a short time were married—for (see above), when one loves one’s Art no service seems too hard.
Mr. and Mrs. Larrabee began housekeeping in a flat. It was a lonesome flat—something like the A sharp way down at the left-hand end of the keyboard. And they were happy; for they had their Art, and they had each other. And my advice to the rich young man would be—sell all thou hast, and give it to the poor—janitor for the privilege of living in a flat with your Art and your Delia.
Flat-dwellers shall indorse my dictum that theirs is the only true happiness. If a home is happy it cannot fit too close—let the dresser collapse and become a billiard table; let the mantel turn to a rowing machine, the escritoire to a spare bedchamber, the washstand to an upright piano; let the four walls come together, if they will, so you and your Delia are between. But if home be the other kind, let it be wide and long—enter you at the Golden Gate, hang your hat on Hatteras, your cape on Cape Horn and go out by the Labrador.
Joe was painting in the class of the great Magister—you know his fame. His fees are high; his lessons are light—his high-lights have brought him renown. Delia was studying under Rosenstock—you know his repute as a disturber of the piano keys.
They were mighty happy as long as their money lasted. So is every— but I will not be cynical. Their aims were very clear and defined. Joe was to become capable very soon of turning out pictures that old gentlemen with thin side-whiskers and thick pocketbooks would sandbag one another in his studio for the privilege of buying. Delia was to become familiar and then contemptuous with Music, so that when she saw the orchestra seats and boxes unsold she could have sore throat and lobster in a private dining-room and refuse to go on the stage.
But the best, in my opinion, was the home life in the little flat— the ardent, voluble chats after the day’s study; the cozy dinners and fresh, light breakfasts; the interchange of ambitions—ambitions interwoven each with the other’s or else inconsiderable—the mutual help and inspiration; and—overlook my artlessness—stuffed olives and cheese sandwiches at 11 p.m.
But after a while Art flagged. It sometimes does, even if some switchman doesn’t flag it. Everything going out and nothing coming in, as the vulgarians say. Money was lacking to pay Mr. Magister and Herr Rosenstock their prices. When one loves one’s Art no service seems too hard. So, Delia said she must give music lessons to keep the chafing dish bubbling.
For two or three days she went out canvassing for pupils. One evening she came home elated.
«Joe, dear,» she said, gleefully, «I’ve a pupil. And, oh, the loveliest people! General—General A. B. Pinkney’s daughter—on Seventy-first street. Such a splendid house, Joe—you ought to see the front door! Byzantine I think you would call it. And inside! Oh, Joe, I never saw anything like it before.
«My pupil is his daughter Clementina. I dearly love her already. She’s a delicate thing-dresses always in white; and the sweetest, simplest manners! Only eighteen years old. I’m to give three lessons a week; and, just think, Joe! $5 a lesson. I don’t mind it a bit; for when I get two or three more pupils I can resume my lessons with Herr Rosenstock. Now, smooth out that wrinkle between your brows, dear, and let’s have a nice supper.»
«That’s all right for you, Dele,» said Joe, attacking a can of peas with a carving knife and a hatchet, «but how about me? Do you think I’m going to let you hustle for wages while I philander in the regions of high art? Not by the bones of Benvenuto Cellini! I guess I can sell papers or lay cobblestones, and bring in a dollar or two.»
Delia came and hung about his neck.
«Joe, dear, you are silly. You must keep on at your studies. It is not as if I had quit my music and gone to work at something else. While I teach I learn. I am always with my music. And we can live as happily as millionaires on $15 a week. You mustn’t think of leaving Mr. Magister.»
«All right,» said Joe, reaching for the blue scalloped vegetable dish. «But I hate for you to be giving lessons. It isn’t Art. But you’re a trump and a dear to do it.»
«When one loves one’s Art no service seems too hard,» said Delia.
«Magister praised the sky in that sketch I made in the park,» said Joe. «And Tinkle gave me permission to hang two of them in his window. I may sell one if the right kind of a moneyed idiot sees them.»
«I’m sure you will,» said Delia, sweetly. «And now let’s be thankful for Gen. Pinkney and this veal roast.»
During all of the next week the Larrabees had an early breakfast. Joe was enthusiastic about some morning-effect sketches he was doing in Central Park, and Delia packed him off breakfasted, coddled, praised and kissed at 7 o’clock. Art is an engaging mistress. It was most times 7 o’clock when he returned in the evening.
At the end of the week Delia, sweetly proud but languid, triumphantly tossed three five-dollar bills on the 8×10 (inches) centre table of the 8×10 (feet) flat parlour.
Sometimes,» she said, a little wearily, «Clementina tries me. I’m afraid she doesn’t practise enough, and I have to tell her the same things so often. And then she always dresses entirely in white, and that does get monotonous. But Gen. Pinkney is the dearest old man! I wish you could know him, Joe. He comes in sometimes when I am with Clementina at the piano—he is a widower, you know—and stands there pulling his white goatee. ‘And how are the semiquavers and the demisemiquavers progressing?’ he always asks.
«I wish you could see the wainscoting in that drawing-room, Joe! And those Astrakhan rug portieres. And Clementina has such a funny little cough. I hope she is stronger than she looks. Oh, I really am getting attached to her, she is so gentle and high bred. Gen. Pinkney’s brother was once Minister to Bolivia.»
And then Joe, with the air of a Monte Cristo, drew forth a ten, a five, a two and a one—all legal tender notes—and laid them beside Delia’s earnings.
«Sold that watercolour of the obelisk to a man from Peoria,» he announced overwhelmingly.
«Don’t joke with me,» said Delia, «not from Peoria!»
«All the way. I wish you could see him, Dele. Fat man with a woollen muffler and a quill toothpick. He saw the sketch in Tinkle’s window and thought it was a windmill at first, he was game, though, and bought it anyhow. He ordered another—an oil sketch of the Lackawanna freight depot—to take back with him. Music lessons! Oh, I guess Art is still in it.»
«I’m so glad you’ve kept on,» said Delia, heartily. «You’re bound to win, dear. Thirty-three dollars! We never had so much to spend before. We’ll have oysters to-night.»
«And filet mignon with champignons,» said Joe. «Were is the olive fork?»
On the next Saturday evening Joe reached home first. He spread his $18 on the parlour table and washed what seemed to be a great deal of dark paint from his hands.
Half an hour later Delia arrived, her right hand tied up in a shapeless bundle of wraps and bandages.
«How is this?» asked Joe after the usual greetings. Delia laughed, but not very joyously.
Clementina,» she explained, «insisted upon a Welsh rabbit after her lesson. She is such a queer girl. Welsh rabbits at 5 in the afternoon. The General was there. You should have seen him run for the chafing dish, Joe, just as if there wasn’t a servant in the house. I know Clementina isn’t in good health; she is so nervous. In serving the rabbit she spilled a great lot of it, boiling hot, over my hand and wrist. It hurt awfully, Joe. And the dear girl was so sorry! But Gen. Pinkney!—Joe, that old man nearly went distracted. He rushed downstairs and sent somebody—they said the furnace man or somebody in the basement—out to a drug store for some oil and things to bind it up with. It doesn’t hurt so much now.»
«What’s this?» asked Joe, taking the hand tenderly and pulling at some white strands beneath the bandages.
«It’s something soft,» said Delia, «that had oil on it. Oh, Joe, did you sell another sketch?» She had seen the money on the table.
«Did I?» said Joe; «just ask the man from Peoria. He got his depot to-day, and he isn’t sure but he thinks he wants another parkscape and a view on the Hudson. What time this afternoon did you burn your hand, Dele?»
«Five o’clock, I think,» said Dele, plaintively. «The iron—I mean the rabbit came off the fire about that time. You ought to have seen Gen. Pinkney, Joe, when—»
«Sit down here a moment, Dele,» said Joe. He drew her to the couch, sat beside her and put his arm across her shoulders.
«What have you been doing for the last two weeks, Dele?» he asked.
She braved it for a moment or two with an eye full of love and stubbornness, and murmured a phrase or two vaguely of Gen. Pinkney; but at length down went her head and out came the truth and tears.
«I couldn’t get any pupils,» she confessed. «And I couldn’t bear to have you give up your lessons; and I got a place ironing shirts in that big Twentyfourth street laundry. And I think I did very well to make up both General Pinkney and Clementina, don’t you, Joe? And when a girl in the laundry set down a hot iron on my hand this afternoon I was all the way home making up that story about the Welsh rabbit. You’re not angry, are you, Joe? And if I hadn’t got the work you mightn’t have sold your sketches to that man from Peoria.
«He wasn’t from Peoria,» said Joe, slowly.
«Well, it doesn’t matter where he was from. How clever you are, Joe —and—kiss me, Joe—and what made you ever suspect that I wasn’t giving music lessons to Clementina?»
«I didn’t,» said Joe, «until to-night. And I wouldn’t have then, only I sent up this cotton waste and oil from the engine-room this afternoon for a girl upstairs who had her hand burned with a smoothing-iron. I’ve been firing the engine in that laundry for the last two weeks.»
«And then you didn’t—»
«My purchaser from Peoria,» said Joe, «and Gen. Pinkney are both creations of the same art—but you wouldn’t call it either painting or music.
And then they both laughed, and Joe began:
«When one loves one’s Art no service seems—»
But Delia stopped him with her hand on his lips. «No,» she said— «just ‘When one loves.'»
Перевод:
Когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы. Такова предпосылка. Наш рассказ явится выводом из этой предпосылки и вместе с тем ее опровержением. Это будет оригинально и ново с точки зрения логики, а как литературный прием — лишь немногим древнее, чем Великая китайская стена.
Джо Лэрреби рос среди вековых дубов и плоских равнин Среднего Запада, пылая страстью к изобразительному искусству. В шесть лет он запечатлел на картоне городскую водокачку и одного почтенного обывателя, в большой спешке проходящего мимо. Этот плод творческих усилий был заключен в раму и выставлен в окне аптеки, рядом с удивительным початком кукурузы, в котором зерна составляли нечетное количество рядов.
Когда же Джо Лэрреби исполнилось двадцать лет, он, свободно повязав галстук и потуже затянув пояс, отбыл из родного города в Нью-Йорк. Дилия Кэрузер жила на Юге, в окруженном соснами селении, и звуки, которые она умела извлекать из шести октав фортепьянной клавиатуры, порождали столь большие надежды в сердцах ее родственников, что с помощью последних в ее копилке собралось достаточно денег для поездки «на Север» с целью «завершения музыкального образования». Как именно она его завершит, ее родственники предугадать не могли… впрочем, об этом мы и поведем рассказ.
Джо и Дилия встретились в студии, где молодые люди, изучающие живопись или музыку, собирались чтобы потолковать о светотени, Вагнере, музыке, творениях Рембрандта, картинах, обоях, Вальдтейфеле, Шопене и Улонге.[1] Джо и Дилия влюбились друг в друга или полюбились друг другу — как вам больше по вкусу — и, не теряя времени, вступили в брак, ибо (смотри выше), когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы. Мистер и миссис Лэрреби сняли квартирку и стали вести хозяйство. Это была уединенная квартирка, затерявшаяся в каком-то закоулке, подобно самому нижнему ля диез фортепьянной клавиатуры. Супруги были счастливы. Они принадлежали друг другу, а Искусство принадлежало им. И вот мой совет тому, кто молод и богат: продай имение твое и раздай нищим… а еще лучше — отдай эти денежки привратнику, чтобы поселиться в такой же квартирке со своей Дилией и своим Искусством. Обитатели квартирок, несомненно, подпишутся под моим заявлением, что они самые счастливые люди на свете. Дом, в котором царит счастье, не может быть слишком тесен. Пусть комод, упав ничком, заменит вам бильярд, каминная доска — трюмо, письменный стол — комнату для гостей, а умывальник — пианино! И если все четыре стены вздумают надвинуться на вас, — не беда! Лишь бы вы со своей Дилией уместились между ними. Ну а уж если нет в вашем доме доброго согласия, тогда пусть он будет велик и просторен, чтобы вы могли войти в него через Золотые ворота, повесить шляпу на мыс Гаттерас, платье — на мыс Горн и выйти через Лабрадор!
Джо обучался живописи у самого великого Маэстри. Вы, без сомнения, слышали это имя. Дерет он за свои уроки крепко, а обучает слегка, что, вероятно, и снискало ему громкую славу мастера эффектных контрастов. Дилия училась музыке у Розенштока — вы знаете, конечно, какой широкой известностью пользуется этот возмутитель покоя фортепьянных клавиш.
Джо и Дилия были очень счастливы, пока не прожили всех своих денег. Так оно всегда… но я не хочу показаться циником. Стоявшая перед ними цель была им совершенно ясна. Джо в самом непродолжительном времени должен был написать такие полотна, ради обладания которыми пожилые джентльмены с тощими бакенбардами и толстыми бумажниками будут лупить друг друга кистенем по голове у него в мастерской. Дилия же должна была познать все тайны Музыки, затем пресытиться ею и приобрести обыкновение при виде непроданных мест в партере или в ложах лечить внезапную мигрень омарами, уединившись в своих личных апартаментах и отказываясь выйти на эстраду. Но прекраснее всего, на мой взгляд, была сама их жизнь в маленькой квартирке: горячие, увлекательные беседы по возвращении с уроков; уютные обеды вдвоем и легкие, необременительные завтраки; обмен честолюбивыми мечтами — причем каждый грезил не столько своими успехами, сколько успехами другого; взаимная готовность помочь и ободрить, и — да простят мне непритязательность моих вкусов — бутерброды с сыром и маслины перед отходом ко сну.
Однако дни шли, и высоко поднятое знамя Искусства бессильно повисло на своем древке. Так оно бывает порой, хотя знаменосец и не виноват. Все из дома и ничего в дом, как говорят грубые, одержимые практицизмом люди. Не стало денег, чтобы оплачивать ценные услуги мистера Маэстри и герра Розенштока. Но, когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы. И вот Дилия заявила однажды, что намерена давать уроки музыки, так как нужно свести концы с концами. День за днем она уходила из дома вербовать учеников и, наконец, однажды вернулась домой к вечеру в очень приподнятом настроении.
— Джо, дорогой мой, я получила урок! — торжествующе объявила она.
— И, знаешь, такие милые люди! Генерал А. Б. Пинкни с дочкой. У них свой дом на Семьдесят первой улице. Роскошный дом, Джо! Поглядел бы ты на их подъезд! Византийский стиль — так, кажется, ты это называешь. А комнаты! Ах, Джо, я никогда не видала ничего подобного! Я буду давать уроки его дочке Клементине. И представь, я просто привязалась к ней с первого взгляда. Она такая нежная, деликатная и так просто держится. И вся в белом с головы до пят. Ей восемнадцать лет. Я буду заниматься с ней три раза в неделю. Ты только подумай, Джо, урок пять долларов! Это же чудно! Еще два-три таких урока, и я возобновлю занятия с герром Розенштоком. Ну, пожалуйста, родной, перестань хмуриться и давай устроим хороший ужин.
— Тебе легко говорить, Дили, — возразил Джо, вооружась столовым ножом и топориком и бросаясь в атаку на банку консервированного горошка. — А мне каково? Ты, значит, будешь бегать по урокам и зарабатывать на жизнь, а я — беззаботно витать в сферах высокого искусства? Ну уж нет, клянусь останками Бенвенуто Челлини! Я, вероятно, тоже могу продавать газеты или мостить улицы и приносить в дом доллар-другой. Дилия подошла и повисла у него на шее.
— Джо, любимый мой, ну какой ты глупый! Ты не должен бросать живопись. Ты пойми — ведь если бы я оставила музыку и занялась чем-то посторонним, а я сама учусь, когда даю уроки. Я же не расстаюсь с моей музыкой. А на пятнадцать долларов в неделю мы будем жить, как миллионеры. И думать не смей бросать мистера Маэстри.
— Ладно, — сказал Джо, доставая с полки голубой фарфоровый салатник в форме раковины.
— Все же мне очень горько, что ты должна бегать по урокам. Нет, это не Искусство. Но ты, конечно, настоящее сокровище и молодчина.
— Когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы, — изрекла Дилия.
— Маэстри похвалил небо на том этюде, что я писал в парке, — сообщил Джо. — А Тинкл разрешил мне выставить две вещи у него в витрине. Может, кто и купит одну из них, если они попадутся на глаза какому-нибудь подходящему идиоту с деньгами.
— Непременно купят, — нежно проворковала Дилия. — А сейчас возблагодарим судьбу за генерала Пинкни и эту телячью грудинку.
Всю следующую неделю чета Лэрреби рано садилась завтракать. Джо был необычайно увлечен эффектами утреннего освещения в Центральном парке, где он делал зарисовки, и в семь часов Дилия провожала его, насытив завтраком, нежными заботами, поцелуями и поощрениями. Искусство — требовательная возлюбленная.
Джо теперь редко возвращался домой раньше семи часов вечера. В субботу Дилия, немного бледная и утомленная, но исполненная милой горделивости, торжественно выложила три пятидолларовые бумажки на маленький (восемь на десять дюймов) столик в маленькой (восемь на десять футов) гостиной.
— Клементина удручает меня порой, — сказала она чуть-чуть устало. — Боюсь, что она недостаточно прилежна. Приходится повторять ей одно и то же по нескольку раз. И эти ее белые одеяния стали уже нагонять тоску. Но генерал Пинкни — вот чудесный старик! Жаль, что ты не знаком с ним, Джо. Он иногда заходит к нам во время урока — он ведь одинокий, вдовец — и стоит, теребя свою белую козлиную бородку. «Ну, как шестнадцатые и тридцать вторые? — спрашивает он всегда. — Идут на лад?» Ах, Джо, если бы ты видел, какие у них панели в гостиной! А какие мягкие шерстяные портьеры! Клементина немножко покашливает. Надеюсь, что она крепче, чем кажется с виду. Ты знаешь, я в самом деле очень привязалась к ней — она такая ласковая и кроткая и так хорошо воспитана. Брат генерала Пинкни был одно время посланником в Боливии.
Но тут Джо, словно какой-нибудь граф Монте-Кристо, извлек из кармана сначала десять долларов, потом пять, потом еще два и еще один — четыре самые что ни на есть настоящие банкноты — и положил их рядом с заработком своей жены.
— Продал акварель с обелиском одному субъекту из Пеории, — преподнес он ошеломляющее известие.
— Ты шутишь, Джо, — сказала Дилия. — Не может быть, чтобы из Пеории!
— Да вот, представь себе. Жаль, что ты не видала его, Дилия. Толстый, в шерстяном кашне и с гусиной зубочисткой. Он заметил мой этюд в витрине у Тинкла и принял его сначала за изображение ветряной мельницы. Но он славный малый и купил вместо мельницы обелиск и даже заказал мне еще одну картину — маслом: вид на Лэкуонскую товарную станцию. Повезет ее с собой. Ох уж эти мне уроки музыки! Ну ладно, ладно, они, конечно, неотделимы от Искусства.
— Я так рада, что ты занимаешься своим делом, — горячо сказала Дилия. — Тебя ждет успех, дорогой. Тридцать три доллара! Мы никогда не жили так богато. У нас будут сегодня устрицы на ужин.
— И филе-миньон с шампиньонами, — добавил Джо.
— А ты не знаешь, где вилка для маслин?
В следующую субботу Джо вернулся домой первым. Он положил восемнадцать долларов на столик в гостиной и поспешно смыл с рук что-то черное — по-видимому, толстый слой масляной краски. А через полчаса появилась и Дилия. Кисть ее правой руки, вся обмотанная бинтами, была похожа на какой-то бесформенный узел.
— Что случилось, Дилия? — спросил Джо, целуя жену.
Дилия рассмеялась, но как-то не очень весело.
— Клементине пришла фантазия угостить меня после урока гренками по-валлийски, — сказала она.
— Вообще это девушка со странностями. В пять часов вечера — гренки по- валлийски! Генерал был дома, и посмотрел бы ты, как он ринулся за сковородкой, можно подумать, что у них нет прислуги. У Клементины, конечно, что-то неладно со здоровьем — она такая нервная. Плеснула мне на руку растопленным сыром, когда поливала им гренки. Ужас как больно было! Бедняжка расстроилась до слез. А генерал Пинкни ты знаешь, старик просто чуть с ума не сошел. Сам помчался вниз в подвал и послал кого-то — кажется, истопника — в аптеку за мазью и бинтами. Сейчас уже не так больно.
— А что это у тебя тут? — спросил Джо, нежно приподымая ее забинтованную руку и осторожно потягивая за кончики каких-то белых лохмотьев, торчащих из-под бинта.
— Это такая мягкая штука, на которую кладут мазь, — сказала Дилия.
— Господи, Джо, неужели ты продал еще один этюд? — Она только сейчас заметила на маленьком столике деньги.
— Продал ли я этюд! Спроси об этом нашего друга из Пеории. Он забрал сегодня свою товарную станцию и, кажется, склонен заказать мне еще пейзаж в парке и вид на Гудзон. В котором часу стряслось с тобой это несчастье, Дили?
— Часов в пять, должно быть, — жалобно сказала Дилия.
— Утюг… то есть сыр сняли с плиты примерно в это время. Ты бы посмотрел на генерала Пинкни, Джо, когда он…
— Поди-ка сюда, Дили, — сказал Джо.
Он опустился на кушетку, притянул к себе жену и обнял ее за плечи.
— Чем это ты занималась последние две недели? — спросил он. Дилия храбро посмотрела мужу в глаза — взглядом, исполненным любви и упрямства, — и забормотала что-то насчет генерала Пинкни… потом опустила голову, и правда вылилась наружу в бурном потоке слез.
— Я не могла найти уроков, — призналась Дилия.
— И не могла допустить, чтобы ты бросил живопись. Тогда я поступила в эту большую прачечную — знаешь, на Двадцать четвертой улице — гладить рубашки. А правда, я здорово придумала все это — насчет генерала Пинкни и Клементины, — как ты считаешь, Джо? И сегодня, когда одна девушка в прачечной обожгла мне руку утюгом, я всю дорогу домой сочиняла эту историю с гренками. Ты не сердишься, Джо? Ведь если бы я не устроилась на работу, ты бы, может быть, не продал своих этюдов этому господину из Пеории.
— Он, между прочим, не из Пеории, — с расстановкой проговорил Джо.
— Ну, это уж не важно, откуда он. Ты такой молодчина, Джо, и скажи, пожалуйста… нет, поцелуй меня сначала… скажи, пожалуйста, как это ты догадался, что я не даю уроков?
— Я и не догадывался… до последней минуты, — сказал Джо.
— И теперь бы не догадался, но сегодня я послал из котельной наверх, в прачечную, лигнин и мазь для какой-то девушки, которой обожгли руку утюгом. Я уже две недели как топлю котел в этой прачечной.
— Так, значит, ты не…
— Мой покупатель из Пеории — так же, как и твой генерал Пинкни, — всего лишь произведение искусства, которое, кстати, не имеет ничего общего ни с живописью, ни с музыкой.
Оба рассмеялись, и Джо начал:
— Когда любишь Искусство, никакие жертвы…
Но Дилия не дала мужу договорить, зажав ему рот рукой.
— Нет, — сказала она. — Просто: когда любишь…
[1] Улонг — сорт китайского чая.
Скачать рассказ на английском языке A SERVICE OF LOVE by O. Henry
Короткие и легкие рассказы на английском >>>
Интересные сложные рассказы и истории для продвинутых (advanced)
Короткие рассказы на английском языке для детей.
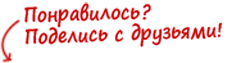

 Книги на английском -
словарный запас с удовольствием
Книги на английском -
словарный запас с удовольствием
 Лучшие методы изучения английского языка
Лучшие методы изучения английского языка
 Самый простой и эффективный способ выучить английский
Самый простой и эффективный способ выучить английский















